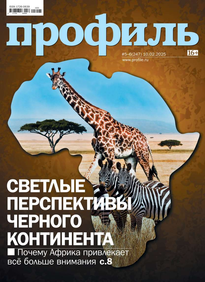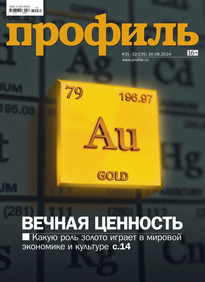Первые относительно устойчивые связи России и Африки начали формироваться в XVII–XVIII веках. Сначала при дворе русских государей появлялись так называемые арапы, а российские священнослужители отправлялись в паломничество в страны Северной Африки (преимущественно в Египет). Затем по мере развития отношений со странами Западной Европы, тогда активно осваивавшими Африку, в Россию начали проникать знания о регионе, а российские императоры и чиновники из европейских турне привозили картины и гобелены с диковинными «колониальными» сюжетами. К концу XVIII века, с получением Российской империей доступа к Черному морю, постепенно развиваются и торговые связи со странами Северной Африки, в ту пору находившимися под властью Османской империи. Из Египта в Россию поступают «росный простой ладан, розмарин, александрийский лист, сахарный песок, нашатырь, шафран», устанавливаются торговые отношения с Марокко, Тунисом, Алжиром. Уже тогда перед Россией встают первые логистические вызовы в торговле со странами Африки: угроза пиратства у берегов Магриба, зависимость от турецкого торгового флота, а также от европейских посредников, поставлявших в Россию африканские товары, «которые до нас доходят уже чрез тысячу мытарских рук и за весьма дорогую цену».
Россия никогда не обладала колониями в Африке и не поддерживала попытки их заполучить. Благодаря этому у Москвы есть важное моральное преимущество, до сих пор обеспечивающее благоприятную атмосферу российско-африканских отношений. Так сложилось благодаря комплексу факторов – от географических и военно-политических до моральных и экономических.
Экономика Российской империи в XVIII–XIX веках не требовала завоза дешевой рабочей силы или импорта тех товаров, которые Африка поставляла в Европу. Географическая удаленность, зависимость российского флота от доступа к Босфору и проливам на Балтике делали невозможным управление удаленными владениями в Африке, да и сама концепция «колонизации» и опыт освоения европейцами стран Африки противоречили логике территориального развития Российской империи. Однако это не означает, что Россия оставалась безучастной к судьбе Африки в поворотном для нее XIX веке. Так, российский дипломат Петр Алексеевич Капнист, на тот момент чрезвычайный посланник и полномочный министр в Гааге, участвовал в Берлинской конференции (1884–1885), на которой был закреплен колониальный раздел Африки и формировалась современная ее политическая карта. Подпись Капниста от имени «государя Всероссийского» стоит под «Генеральным актом», принятым по итогам конференции. Интерес для России представлял в первую очередь беспрепятственный доступ к торговле со странами Африки, а также возможность миссионерской деятельности.
К концу XIX века Россия утвердилась в Африке как нейтральная сила и противовес экспансионистской политике европейских держав. Важную роль в сохранении Эфиопии как независимого государства сыграла дипломатическая поддержка со стороны Российской империи. На рубеже веков именно отношения с этой страной, официально установленные в 1898-м, развивались наиболее динамично: в Эфиопию отправлялись экспедиции российских ученых и путешественников, в Аддис-Абебе был открыт госпиталь Российского общества Красного Креста, состоялся обмен визитами на высоком политическом уровне. На конец XIX века приходится рост интереса в Российской империи к ситуации на юге Африки и бурским республикам – Трансваалю и Оранжевой. Российская пресса и большая часть общества симпатизировали боровшимся против британцев бурам, а российские офицеры и добровольцы участвовали на их стороне во Второй англо-бурской войне (1899–1902).
В активизации российско-африканских связей на рубеже веков бóльшую роль сыграла частная инициатива, и в том числе интересы отдельных политических авантюристов, чем последовательная политика царского правительства. В дальнейшем активность России в регионе снизилась на фоне Русско-японской войны, создания Антанты (подразумевавшее необходимость не нарушать интересы Франции и Великобритании – основных колониальных держав в Африке) и внутриполитических потрясений.
Советская Россия и Африка
В 1920–1930-х африканская политика Москвы формировалась в логике курса на «мировую революцию» и была направлена на подрыв ресурсной базы мирового капитализма. Советско-африканские связи тогда концентрировались на обучении руководящих кадров для местных подпольных коммунистических и социалистических движений по линии Коминтерна и Международной организации помощи борцам революции, а наиболее интенсивно развивались контакты с белыми коммунистами Южно-Африканского Союза (ЮАС) – самой промышленно развитой в ту пору страны региона. Советский Союз и ЮАС в годы войны даже стали союзниками по антигитлеровской коалиции, но наметившееся сближение было сведено на нет началом политики апартеида в ЮАР в 1948 году.
Вторая мировая послужила катализатором распада колониальных империй, и СССР, в том числе на площадке ООН, внес ключевой вклад в процесс деколонизации, что увенчалось принятием Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам Генассамблеей ООН в 1960-м, который теперь известен как «Год Африки».
Москва сразу же начала поддерживать получившие независимость страны и участвовала в продолжавшемся процессе деколонизации, особенно на юге Африки: в Южной Родезии (Зимбабве), ЮАР, Намибии, Анголе и Мозамбике. Правда, говорить о «целостной» советской политике в Африке или «африканской стратегии СССР» было бы некорректно: в отношении разных стран Москва исходила из разных посылок – военно-стратегических, экономических и в меньшей степени идеологических.
Вопреки стереотипам «социалистическая ориентация» здесь играла не главную роль. На протяжении всей холодной войны Советский Союз взаимодействовал как с «социалистическими» народными республиками: Анголой, Бенином, Республикой Конго, Мозамбиком, Эфиопией, так и с «капиталистическими»: Нигерией, Кот-д’Ивуаром и Королевством Марокко.
На двустороннем уровне развитие отношений носило комплексный характер – торговля, особенно промышленными товарами, между СССР и странами Африки выстраивалась в привязке к советским инфраструктурным проектам на территории этих государств (например, в 1985-м доля машин и оборудования, поставленных для объектов, строящихся при техническом содействии СССР, в общем советском экспорте в Эфиопию составила 17%, Ливию – 19%, Алжир – 70%, Нигерию – 94%), а образовательное сотрудничество – с потребностями народного хозяйства стран Африки: специалисты, проходившие подготовку в Советском Союзе, возвращались на родину и работали в том числе на предприятиях промышленности и народного хозяйства, созданных при помощи СССР.
Образование – то направление, где СССР и странам СЭВ удалось добиться наибольших успехов. Стратегический подход Москвы предполагал подготовку управленческих кадров, которые в среднесрочной перспективе возглавят свои родные страны. В 1981-м в советских вузах учились 34 тыс. студентов из Африки, а суммарно во всех государствах Восточной Европы – 72 тыс., что сопоставимо с числом африканских студентов в странах ОЭСР (111 тыс.) и значительно больше, чем в США (9 тыс.). Всего в советских вузах в 1960–1990 годах прошли подготовку около 90 тыс. африканцев. До сих пор сложно в полной мере оценить тот вклад, который африканские выпускники советских вузов внесли в развитие своих стран и их отношений с Россией.
Исследования Центра изучения Африки НИУ ВШЭ показывают: по состоянию на 2024 год на ключевых руководящих должностях в странах Африки находилось не менее 20 политиков, учившихся в СССР/России. Конечно, число госслужащих, учившихся в бывших метрополиях (Франция, Великобритания, Португалия) и США, превышает число советских выпускников, однако, например, в сравнении с ФРГ, где училось примерно столько же студентов из Африки, что и в СССР, советская политика оказалась более эффективной. Сейчас на президентских постах в Африке находятся три человека, получивших образование в СССР, – Жоау Лоуренсу в Анголе (Военно-политическая академия имени В.И. Ленина), Джон Махама в Гане (Институт общественных наук при ЦК КПСС) и Нетумбо Нанди-Ндаитва в Намибии (Высшая комсомольская школа).
Важный аспект советско-африканских отношений – это финансовая помощь. Ее до сих пор поминают, когда хотят показать «непродуманность» всей советской политики в Африке. Однако надо понимать, что из-за распада СССР Москве не удалось в полной степени воспользоваться многими дивидендами, на получение которых была ориентирована советская помощь Африке, что привело к «списанию долгов» в 2000-х уже под эгидой Парижского клуба. Во-первых, стоит отметить, что в той или иной форме кредиты странам Африки в годы холодной войны (как, к слову, и сейчас) давали все ведущие державы и, более того, советская помощь в сравнении с западной была куда менее значительной. Так, в первой половине 1980-х финансовая помощь странам Африки южнее Сахары со стороны всех стран СЭВ составляла около 3% от общемировой (для сравнения: США – 23%, ФРГ – 10%, Япония и Великобритания – по 5%). Во-вторых, условия финансовой помощи были у СССР и его союзников более строгими (льготная составляющая кредитов СЭВ была около 40–50%). В-третьих, кредиты Москвы подразумевали закупку советского оборудования под проекты, а выплату части долга за строительство промышленных объектов – поставками доли продукции предприятия, например, глинозема, фосфатов, рыбы и т. д. Наконец, советская экономическая помощь странам Африки была вписана в более широкий контекст промышленной кооперации внутри СЭВ и цепочек создания добавленной стоимости за его пределами, которые бы работали на страны соцлагеря, что, с одной стороны, укрепляло бы промышленный потенциал развивающихся стран, а с другой – обеспечивало соцлагерь необходимыми товарами.
Россия и Африка
В 1990-х на фоне наступившего в стране кризиса работа на африканском направлении свелась к минимуму: сократились дипломатическое присутствие и политические контакты, многие инфраструктурные проекты, начатые СССР, были заморожены на высокой стадии готовности. Развивались лишь отношения с ЮАР, что было связано с глобальной «модой» на эту страну – в 1994 году там пал режим апартеида, а укреплению связей содействовала поддержка, которую СССР оказывал пришедшему к власти Африканскому национальному конгрессу.
В 2000-е началась активизация политических контактов: африканские президенты стали все чаще приезжать в Москву, состоялись турне президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева по странам Черного континента. Тогда же были сделаны основные инвестиции российских компаний в Африку: «Русала» в добычу бокситов и производство глинозема в Гвинее, «Алросы» в добычу алмазов в Анголе. В Африку пришли и другие российские компании: ВТБ, «Ренова», «Лукойл», «Газпром», «Татнефть», «Стройтрансгаз», «Норильский никель». Вложения крупного российского бизнеса в Африку рассматривались как шаг на пути к превращению в глобальных игроков, формированию российских ТНК. Однако судьба этих инвестиций сложилась по-разному: некоторые проекты стали прибыльными и обеспечили доходы и российским компаниям, и российской экономике, как, например, инвестиции «Алросы» в Анголе и «Русала» в Гвинее (оба проекта восходят еще к временам СССР, когда советские специалисты обнаружили месторождения полезных ископаемых и подготовили планы их освоения). В то же время значительная часть вложений российских компаний в Африку в 2000-х была потеряна и не способствовала укреплению двусторонних связей.
Признавая влияние ухудшения отношений со странами Запада и санкций в 2014-м на активизацию российско-африканских контактов, важно отметить: интерес к Африке носит объективный характер и обусловлен ростом экономического и политического влияния региона в мировых делах. Все важнее в российско-африканских отношениях становится политический аспект – растет число контактов на высшем и высоком политическом уровне, укрепляются связи в сфере безопасности.
Состоялись два успешных политических саммита в 2019-м и 2023 году, начинается подготовка к следующему, намеченному на 2026-й. Ни одна из африканских стран не присоединилась к санкциям, а на международных площадках (ООН, ВТО и др.) они играют роль балансира, сдерживая антироссийски настроенные силы. Москва же с уважением относится к опасениям и мнению стран Африки по ключевым вопросам международной повестки.
Основными политическими партнерами России в Африке остаются Алжир, Египет и ЮАР, укрепляются связи с Эфиопией после ее вступления в БРИКС. Вероятно, присоединение Нигерии и Уганды к БРИКС в качестве стран-партнеров поспособствует укреплению связей с ними. Устойчиво развивается диалог с Танзанией и Сенегалом. Наконец, Россия остается важным партнером для Ливии, Судана и ЦАР. Заметным трендом последних лет стало усиление российских позиций в Сахеле и официальное размещение российских военнослужащих в Буркина-Фасо и Нигере.
Одним из важных достижений гуманитарной политики стало увеличение числа африканских студентов в России, которое к 2025 году превысило 35 тыс. Столько же училось в СССР в 1980-х, однако за это время население Африки утроилось, соответственно, необходимы дальнейшая работа по привлечению одаренных африканцев в Россию, повышение требований к абитуриентам, масштабирование курсов русского языка в странах Африки.
В части торгово-экономического сотрудничества после 2014 года произошли значительные изменения. Поскольку зачастую российские компании в Африке действовали в качестве младших партнеров западных корпораций, сокращаются инвестиции, а основной фокус переносится на торговлю. Такая модель – рост товарооборота при сокращении инвестиций и кредитования – сохраняется уже более 10 лет. К крупным инвестиционным проектам, начатым за последние пять лет, можно отнести лишь строительство АЭС «Эль-Дабаа» (4,8 ГВт) в Египте госкорпорацией «Росатом». Соотношение анонсированных и реализованных проектов пока остается крайне низким.
В 2023-м товарооборот со странами Африки составил рекордные $24,5 млрд при российском экспорте в $21 млрд. Профицит торговли со странами Африки таким образом составил почти $18 млрд, или почти 13% всего профицита торгового баланса России в 2023 году, что особенно существенно в сравнении с долей Африки в общем товарообороте (3%).
В торгово-экономической части кроется одно из важных отличий России от СССР в вопросе взаимодействия с Африкой. Перечень основных торговых партнеров России в Африке в 2025 году почти не отличается от 1985-го – это все те же Алжир, Египет, Марокко и Нигерия. Но торговля СССР со странами Африки была более сбалансированной: в 1985-м советский экспорт в Африку составил 1,4 млрд рублей при импорте в 1,9 млрд (в действительности импорт составил около 1 млрд, советская внешнеторговая статистика отражала бартерные поставки нефти из Ливии и других нефтеэкспортеров как импорт, хотя СССР реэкспортировал этот объем в Европу). Из Африки импортировались финики, вино, апельсины, бокситы, фосфатные удобрения, пряжа, орехи, кофе, какао-бобы. За 30 лет российский экспорт в Африку кратно вырос, а импорт остался на прежнем уровне.
Страны Африки не видят в России потенциальный рынок сбыта для своих товаров (что связано в том числе с низкой комплементарностью в торговле большинства стран Африки и России). Однако вместе с Трампом вопросы торгового баланса вновь возвращаются в мировую политику, а для Африки дефицит – одна из ключевых проблем, усугубляющих долговой кризис и подрывающих экономическую стабильность. Применительно к российско-африканской торговле такое сальдо может быть частично компенсировано российскими инвестициями, импортом услуг (туризм) и, возможно, денежными переводами трудовых мигрантов. Инвестиции отечественных компаний могут быть сосредоточены в первую очередь в тех отраслях, где уже удалось закрепиться российским экспортерам (рынки продовольствия, энергоносителей, удобрений, продукции металлургии и ЛПК), основной задачей, таким образом, будет обслуживание уже сформировавшихся товарных потоков в части логистики, хранения и дистрибуции.
Показателен пример российского сельскохозяйственного экспорта, который составляет треть от всех поставок России в Африку. СССР не был мировой сельскохозяйственной державой и зависел от импорта базовых продовольственных категорий. Сейчас же Россия – ключевой игрок на мировых рынках удобрений, зерна и ряда других продовольственных категорий, но пока будто уклоняется от роли модератора и ключевого игрока на мировых продовольственных рынках, довольствуясь статусом поставщика товаров, не стремится формировать глобальную продовольственную повестку и до сих пор во многом зависит от западной, пока неподверженной санкциям финансовой и транспортно-логистической инфраструктуры. Сотрудничество Москвы со странами Африки в сфере АПК развивается по «биржевой» модели – российские экспортеры редко понимают, как устроены рынки африканских стран, их потенциал, и ограничиваются взаимодействием с посредниками или FOB-поставками. Стратегические рыночные доли пока не конвертируются в стратегическое влияние – в т. ч. в сфере определения повестки развития, влияния на стандарты и спецификации. Для российских экспортеров стратегическое влияние означает долгосрочный и устойчивый доступ на растущие рынки, занятие определенных ниш, возможность влиять на процесс принятия решений в сельскохозяйственной отрасли и в результате – рост экспортных доходов Российской Федерации и укрепление продовольственного суверенитета стран Африки (за счет поставок российских удобрений, цифровых решений, сельхозтехники, создания систем экологического мониторинга).
В целом пока Россия чувствует себя неуверенно в качестве экспортера товаров, а не сырья, хотя Советский Союз в Африке был именно поставщиком готовой продукции и решений (инструментов суверенитета): продукции машиностроения, металлургии и химической промышленности, станков, содействовал процессу стратегического планирования, готовил национальные кадры, содействовал развитию перерабатывающей промышленности и локализации, развитию национальных систем образования, медицины.
Несмотря на распространенный прогноз о том, что XXI век станет для Африки периодом устойчивого развития, первая его четверть демонстрирует ограниченную применимость традиционных моделей экономического роста. Развитие региона требует поиска новых подходов и моделей международного сотрудничества. Россия может помочь формированию таких моделей, предлагая решения в сфере машиностроения, информационно-коммуникационных технологий и промышленной кооперации.
Конкурентоспособность российских предложений за счет ценового фактора и адаптивности к африканским реалиям создает условия для углубленного экономического сотрудничества. В этом контексте африканские рынки могут стать не только точкой роста для отечественных поставщиков, но и площадкой для разработки и тестирования новых стратегий экономического взаимодействия.